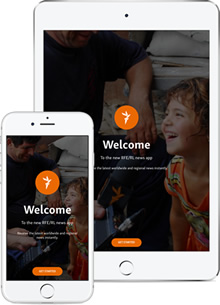Филолог Олег Лекманов считает, что никакие символические действия противников путинского режима сегодня не могут отменить политической борьбы. Борьбе за слова должны предшествовать наши поступки.
Олег Лекманов ответил на вопросы Радио Свобода.
– Я помню ваши с Михаилом Дзюбенко комментарии к рассказу Бунина "Чистый понедельник"; Бунин, пишете вы, в 1944 году использует в повествовании московские топонимы, которых к тому времени уже не существует, например храм Христа Спасителя. У меня в связи с этим странная параллель. Вот мы с вами в 2010-е ходили примерно по одним и тем же маршрутам: на митинги, на марши, на "Эхо Москвы" и на Радио Свобода… Скажите, этой Москвы тоже нет – которая была до 24 февраля?
– В какой-то степени это так. Та Москва ушла очень далеко, хотя некоторые ее куски иногда ностальгически вспоминаются. По каким-то местам я скучаю, например кафе "Бобры и утки". Или "Билингва" и "Нейтральная территория". Но надо сказать, что ребенком я застал Москву 1970-х, которая очень долго почти не менялась: я помню, например, Арбат, который не был пешеходной улицей… Арбат, так сказать, "до фонарей". А затем Москва стала стремительно обновляться. Этот процесс убыстрялся с годами, и изменения были не в лучшую сторону – в отличие от Петербурга, кстати. Чтобы какое-то здание уничтожить, необязательно его ломать. Можно просто стеклопакеты на окна поставить. И всё. Здание уже не то. Поэтому нынешняя потеря Москвы, она все-таки не так остро воспринималась.
Патриаршие пруды стали для меня заветным, заколдованным местом
…Помню, за день до отъезда из России я сентиментально пришел на Патриаршие пруды. С ними у меня ассоциируется открытие Москвы как чуда – меня маленьким мальчиком туда впервые привели. Не было еще в моем багаже "Мастера и Маргариты", или, скажем, стихотворений Дмитрия Александровича Пригова о Патриарших – был только этот маленький пруд, обрамленный каре из домов, и памятник Крылову с басенными зверями. И этого оказалось достаточно. Патриаршие пруды с тех пор стали для меня заветным, заколдованным местом. Первый поцелуй мой случился на Патриарших, и так далее. Так вот, когда я пришел туда за день до отъезда, то испытал – не то чтобы разочарование, не до того было – просто это было уже совсем другое место. С другим совершенно ландшафтом. Я уезжал не из того города, который нежно любил, а из того, в котором дорогими для меня оставались отдельные локусы. Соборная площадь Кремля… Кусочек Пироговской улицы до Новодевичьего монастыря… Коломенское… Пречистенка и параллельная ей Остоженка… Измайловский парк… За два года до войны мы с женой купили квартиру, о которой давно мечтали, в Медовом переулке – одно название чего стоит – и место это отличное. Станция метро "Электрозаводская" – Москва краснокирпичная, заводская, солдатская и офицерская – по имени Семёновского и Преображенского полков, которые там стояли. Вот по этому кусочку Москвы, далеко не самому туристически освоенному, я очень скучаю.
– Эмигрантские разговоры про ностальгию – все это тоже за три года успело превратиться в штамп.
– Более всего, пожалуй, печалит трагическая повторяемость того, что происходит с нашей историей. Нет никакого движения вперед, мы все обречены кружиться в утомительном историческом хороводе. "Нет выхода", как написано на дверях метро. Да, различия между нами и эмигрантами прежних волн имеются. Скажем, я могу каждый день переговорить по телефону со своим папой (он в Москве) и даже увидеть его, а те, кто уезжал из России в ХХ веке, отрезали себя от своих близких окончательно и бесповоротно. И всё же сходство наших ситуаций, по-моему, важнее различий. Опять ощущение, что мы в меньшинстве, что плетью обуха не перешибить, опять потенциальные единомышленники в эмиграции насмерть ссорятся из-за всякой ерунды.
Олег Лекманов родился в 1967 году. Окончил Московский педагогический государственный университет (1991). Кандидатская диссертация о книге Осипа Мандельштама "Камень" (1995), докторская диссертация "Акмеизм как литературная школа (опыт структурной характеристики)" (2002). Профессор факультета журналистики МГУ (1998—2011), профессор факультета филологии Высшей школы экономики (с 2011-го по 30 июня 2022-го). В 2022 году вместе с семьей эмигрировал в Грузию. Вскоре перебрался в Узбекистан, где получил место профессора русской литературы в Национальном университете Узбекистана. В августе 2023 года получил двухгодичное место приглашенного профессора в Принстонском университете (США).
– Вы преподаете сейчас в США русскую литературу. Вам не кажется, что вся она читается сейчас по-другому? Таков эффект трагического события, моральной катастрофы, которая отбрасывает тень даже на прошлое.
– Я сейчас подробно разбираю с американскими аспирантами ключевые тексты русской литературы ХХ столетия, и, да, сегодня многие из них читаются иначе, чем раньше.
То, что для русской культуры еще остается нормой, для западной современной культуры уже совершенно неприемлемо
Я думаю, это связано, с одной стороны, действительно, с войной – и с теми обстоятельствами, которые привели к тому, что война стала возможна. И с той ролью, которую русская культура, увы, сыграла в этом. Но в США это даже несколько острее ощущается, с учетом тех громадных перемен, которые произошли в цивилизованном обществе в XXI веке. То, что для русской культуры еще остается нормой, для американской, для западной современной культуры уже совершенно неприемлемо. Кажется диким и невозможным. Весьма выразительный пример – многие стихотворения Иосифа Бродского. Я не буду сейчас говорить о стихотворении "На независимость Украины", всё, о чем я мог и хотел написать в связи с ним, я уже написал. Я люблю Бродского – он великий поэт, но кое-что из того, чем он (и не только он!) бахвалился, сегодня выглядит глупо и оскорбительно. Например, многие строки Бродского о женщинах… Вспомним хотя бы микрофрагмент из самого раскрученного его стихотворения: "Не выходи из комнаты…": "А если войдет живая пасть разевая, выгони не раздевая". Ну это же просто дальше ехать некуда! Однако тут есть одна тонкость важная. Мы все склонны читать Пушкина, или Марка Твена, или Бродского вне временного контекста, воспринимать их тексты так, как будто они сегодня написаны. Но ведь времена меняются! И то, что было допустимым вчера, сегодня может смотреться чудовищно. Свою задачу, как филолога, я, в частности, в этом и вижу – восстанавливать утраченный временной контекст. Не оправдывать с помощью такого приема поэта, но и не обвинять – это не в моей компетенции, а комментировать и объяснять.
– Это стихотворение Бродского – гимн советскому бегству от внешней несвободы во внутреннюю жизнь. Но в новое время, напротив, нужно было "выходить на улицу", чтобы не совершить ошибки. И мы наказаны историей, в том числе, за то, что следовали советским интеллигентским установкам. Воспевающим только индивидуальное спасение.
– Вы знаете, я сегодня, как и многие из нас, часто думаю: что я сделал в жизни не так, в чем моя вина, почему со страной, где я прожил пятьдесят пять лет, произошел весь этот кошмар? Я ведь готов был "выйти из комнаты" и двинуть на митинг в защиту Голунова, или Навального, или Сафронова. Или против вмешательства России во внутренние дела Грузии, бандитского захвата Крыма и так далее. Я даже, трясясь от страха, но чувствуя себя чуть ли не героем, 24 февраля 2022 года пришел на Пушкинскую площадь. Но я не взял в руку камень, я не бросился на омоновца, который при мне схватил пожилую женщину, я спрятался в вестибюле метро, когда на Пушкинской площади начали винтить собравшихся. В этом, по-моему, главная и роковая разница между мною и украинцем с Майдана. Он взял в руку камень, а я нет. И сейчас, боюсь, не взял бы. Героизм Алексея Навального, по-моему, в первую очередь, состоит в том, что его слова были подкреплены поступками. Он пожертвовал свободой, а в конечном счете и жизнью ради будущей свободной России. Я – нет.
Никого не призываю брать в руки камень
Хочу специально подчеркнуть, что я никого не призываю брать в руки камень. В той ситуации, в которой все мы оказались, каждый должен решать за себя и никому свой выбор не имеет права навязывать. Более того, я совершенно искренне восхищаюсь теми своими коллегами в РФ, которые продолжают делать свое дело (учить школьников и студентов, выпускать хорошие книги), несмотря ни на что.
Вы ведь спросили про меня, и я только про себя, только про то, что я должен бы был сделать, отвечаю.
– В русской литературе война является постоянным фоном, нормой, что во многом и способствует милитаризации общества. Война на Кавказе, например, которая длилась 50 лет, – она у многих классиков, у Толстого, Лермонтова… Но никакой рефлексии по поводу того, что это была колониальная, в сущности захватническая война, в обществе как не было, так и нет. Это можно исправить – в будущем – и каким образом?
– Мне кажется, что Лев Толстой и Лермонтов – это разные случаи. Потому что Толстой, как показал в недавней прекрасной статье Андрей Зорин, уже в первых своих рассказах осуждал войны, в том числе и войны колониальные. Зорин там приводит весьма показательный фрагмент из чернового наброска к рассказу Толстого "Набег", изображающий, как русские солдаты грабят горское село: "Драгуны, козаки и пехота рассыпались по аулу. – Там рушится крыша, выламывают дверь, тут загарается забор, сакля, стог сена, и дым расстилает по свежему утреннему воздуху; вот козак тащит куль муки, кукурузы, солдат – ковер и двух куриц, другой – таз и кумган с молоком, третий навьючил ишака всяким добром; вот ведут почти голого испуганного дряхлого старика Чеченца, который не успел убежать. – Капитан подъехал ко мне, мы спокойно разговаривали и шутили, посматривая на разрушение трудов стольких людей". Если это не рефлексия по поводу колониальной войны, то что тогда рефлексия?
Я думаю, что обобщения (Пушкин, Толстой, Лермонтов, Булгаков…), к которым, увы, все мы склонны, только мешают пересмотру роли русской культуры в формировании современного имперского сознания. Есть Толстой, есть Лермонтов, который тоже, между прочим, написал в стихотворении "Валерик", посвященном войне русских с горцами:
Я думал: "Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?"
А есть, предположим, Захар Прилепин, если кому-то (не мне!) интересно рассуждать о его прозе и его идеологической позиции. Все это, повторюсь, разные случаи, и к общему знаменателю я бы их сводить не стал.
Но если все же пытаться найти общий знаменатель для разговора об отношении русской культуры к культурам других народов, чьи территории стали частью российской, а затем советской империи, то я бы, пожалуй, использовал слово "высокомерие". Когда в октябре 1939 года Лидия Чуковская спросила у Анны Ахматовой, нравится ли ей поэзия Тараса Шевченко, то получила в ответ: "Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая жизнь, и я страну ту не полюбила и язык... “Мамо”, “ходимо”, – она поморщилась, – не люблю". "Меня взорвало это пренебрежение", – оценивает ахматовскую реплику Чуковская. Высокомерие, пренебрежение, в лучшем случае – снисходительно-доброжелательное отношение старшего к несмышленому ребенку, вот какими словами можно описать взаимодействие русской культуры с культурами советских, а затем бывших советских республик. Следующий и важный вопрос: подобное отношение характерно только для русской культуры или для других имперских культур тоже? В чем сходство? В чем разница? Спокойными, не истерическими ответами на эти вопросы, по-моему, и стоит сегодня заняться современной науке. Только ведь не получится, "братва на нервах"…
– Советская военная литература сформировала мировоззрение нескольких поколений. Ее очень много; но при этом – уже задним числом понимаешь – там не описана материя войны, война как таковая, трупы, не изображен ежедневный ужас войны. Вот Григорий Бакланов описывает, как шевелились волосы на голове мертвого немца, Виктор Астафьев в "Веселом солдате" – как убил немца… Но про своих-то они подобное не пишут. В том числе и отсюда, возможно, эта бравада взялась уже в наши дни – "можем повторить". Грубо говоря, у нас не было своего Ремарка – с его приговором войне.
Нынешние Z-ты на жестокость и кровь войны подсели, как на тяжелые наркотики
– Во многом вы правы. Советские писатели и кинематографисты не стеснялись изображать ужасы нацистских концлагерей. Солженицын и особенно Шаламов с Георгием Демидовым рассказали читателю об ужасах советских концлагерей. А вот война с нацистами всегда была окутана в произведениях советских писателей героической дымкой. Тяжелый быт войны показал Виктор Некрасов, чья великая повесть "В окопах Сталинграда" совсем неслучайно начинается с того, что офицер стирает свое исподнее в речке. Быт, но не ужас войны. Об ужасе войны написал поздний Астафьев в неровном, но сильном романе "Прокляты и убиты", а еще замечательный белорусский прозаик Василь Быков – сегодня его, к сожалению, мало читают. Если говорить о советском кино, то тут нужно вспомнить Алексея Германа, чей фильм 1970 года "Проверка на дорогах" потому и положили на полку на 16 лет, что война там была показана как страшная и непривлекательная.
Кстати сказать, сегодняшние Z-литераторы, например Анна Долгарева, часто изображают ужасы войны – кровь, кишки, грязь, пот, но не с целью отпугнуть читателя, а, наоборот, упиваясь всеми этими ужасами:
И все же,
Пусть язык мой умрет,
Но это я все равно скажу
В эту
Перемешанную с останками тел жуть,
В этот закат розовый
И воздух синий,
До последнего вздоха:
"Слава России".
Здесь конфетная красивость с перестановкой эпитета и существительного местами ("закат розовый", "воздух синий") неслучайно соседствуют с "останками тел" – эти образы должны в одном ряду восприниматься. Такое впечатление, что нынешние Z-ты на жестокость и кровь войны подсели, как на тяжелые наркотики.
– Все репрессивные законы до и после 2022 года фактически направлены на то, чтобы не дать речи состояться. Чтобы разрушить речь. Помните, с введением иноагентов нужно было каждый раз это в эфире повторять – "признан иностранным агентом". Собственно, все это заставляет речь и сознание спотыкаться. Что им до языка, хочется спросить, почему они по-прежнему боятся слов, когда у них такой аппарат принуждения и общество задавлено?
Давно уже не слово, а слово в соединении с картинкой на людей влияет
– Знаете, я думаю, что люди, которые в РФ рулят пропагандой, – Путин, Кириенко, кто там еще? – они действительно считают язык оружием. Поскольку все они – дети советской страны, а в СССР языку, речи, тому, как и чтó говорится, придавалось огромное значение. И им сегодня кажется, что если они будут правильные слова вбивать в головы людям, то это будет работать, и все за ними пойдут. Самый выразительный пример – собственно, с этим дурацким определением: "специальная военная операция" вместо "война". Причем Путин сам, забываясь, иногда говорит "война", но другим не разрешает. Или вот то, как нас обозвали – "иноагенты" – ага, зловещее что-то, из детективов Юлиана Семенова про шпионов и про "ТАСС уполномочен заявить". На самом деле роль слов в современном российском обществе, да и не только в российском, как мне кажется, сильно преувеличена. Давно уже не слово, а слово в соединении с картинкой на людей влияет. Не просто "Я русский!", а бредущий по полю ржи певец Шаман со слоганом "Я русский!" – вот что производит впечатление. Но ведь россияне молчат в тряпочку (кричащих "Ура! Война!", я думаю, не осталось почти) не потому, что им по телевизору певца Шамана показывают и Соловьева с Симоньян, а потому что у Путина – сила, у Путина ОМОН, у Путина – ФСБ, у Путина – судьи, забывшие, что такое правосудие, короче говоря, у Путина в руке карающий меч, а у них что? А у них – ничего… Уточню на всякий случай – я тех, кто в России остался, не проклинаю и не упрекаю, был бы я там, скорее всего, тоже в тряпочку молчал бы – боялся бы за жену, за детей своих, да и за себя самого тоже.
– Агрессия совершается, в том числе, от лица и во имя русской культуры – и поэтому русский язык "тоже виноват", с точки зрения жертвы. У писателя Михаила Шишкина была идея – "нужно забрать русский язык у государства". Можно ли отобрать у государства язык?
– Я с большим уважением отношусь к Михаилу Шишкину. Он прекрасный писатель и очень хороший человек. Но эта идея его мне кажется прекраснодушной. Прежде всего, потому что само поле битвы, как я выше пытался сказать, опустело уже давно. Точнее, на этом поле битвы мы бьемся картонными мечами с государством, переживаем, когда нас бьют, радуемся, когда мы побеждаем… А в это же время настоящие, не картонные ракеты падают на украинские города, убивают людей. А потом, что значит "забрать", если это не метафора? Вон Анна Ахматова, о которой мы сегодня уже говорили, поставила себе цель (я думаю, что поставила) в гениальном цикле Requiem "забрать" у сталинского государства слово "народ". Помните два финальных стиха из эпиграфа к циклу?
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.
Если "забирать" что-то у власти, то не в символическом смысле, а в буквальном
Прекрасные, очень сильные строки, превратившиеся в афоризм. И что? Точно так же, как и до написания ахматовского цикла словом "народ" наши властители пользовались и пользуются, когда хотят оправдать свою очередную подлость желанием многих, всех людей.
Я думаю, что если "забирать" что-то у власти, то не в символическом смысле, а в буквальном. Повторить то, что произошло 21 августа 1991 года… Но я, сидящий в прекрасной квартире в сказочно уютном Принстоне, какое я имею право требовать от россиян подобных действий? Никакого… Да я и не требую, разумеется, а просто хочу сказать, что все наши конгрессы, съезды, акции по отъему русского языка у государства и тому подобное безобразной ситуации в РФ не изменят. А изменить могли бы только активные действия, связанные с большим риском для наших жизней.
– Интересно, что вы вспомнили про слово "народ". Мы знаем, что после 1945 года в Германии сознательно избавлялась от некоторых слов, которые ассоциировались с прежним режимом, настолько они были запачканы. Вот эта операция, как вам кажется, нужна русскому языку – в будущем? Сознательно отказаться от использования таких слов, как народ, например.
Язык покаяния перед Украиной формируется усилиями многих поэтов и прозаиков
– Я думаю, что от того, скажу я "нужна" или "не нужна", к сожалению, совершенно ничего не зависит. Если уж сделать такое фантастическое предположение, что кто-нибудь вменяемый будет в России принимать решения на государственном уровне в ближайшие десять лет, одним из первых, как мне кажется, должно быть отнюдь не решение употреблять или не употреблять слово "народ". В первую очередь нужно будет (точнее говоря, нужно было бы) избежать ошибок, которые были допущены после ХХ съезда, в 1960-е годы и после августа 1991 года. Тогда палачам и их подручным в итоге не было ни-че-го. Про палачей не мне решать, а Гаагскому трибуналу, а вот подручные, "первые ученики", как назвал их Евгений Шварц, уверен, навсегда должны быть отлучены от той профессии, в которой они себя так гнусно проявили. У поэта Александра Аронова есть хорошее стихотворение, которое заканчивается строками:
Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность:
Что у нас за чем.
Так вот, я не хочу, чтобы Маргарита Симоньян плакала на плече у Юлии Навальной.
– Вы говорили о высокомерии русской культуры. Но вот в языке оппозиционных политиков хотя бы должны появиться уже сейчас какие-то новые слова, которые "учитывают, считаются" с Другими? Возможно ли, на ваш взгляд, формирование языка вины, покаяния в том числе и политического, в первую очередь перед Украиной?
– У Марии Степановой есть строка, которая, как мне кажется, очень точно передает сегодняшнее внутреннее состояние не только мое, но и многих из нас: "Пока мы спали, мы бомбили Харьков". То есть язык покаяния перед Украиной уже формируется усилиями не только Марии, но и многих других поэтов и прозаиков. Не хочу сейчас называть их имена, чтобы случайно им не навредить, некоторые из этих авторов до сих пор живут в России. Поэты обязательно скажут и уже говорят за меня то, что я хотел бы, но не смог, не сумел. Ведь в этом заключается одна из главных задач поэзии, о чем еще Мандельштам писал:
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.